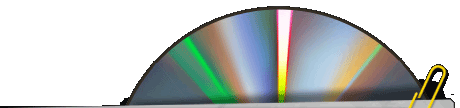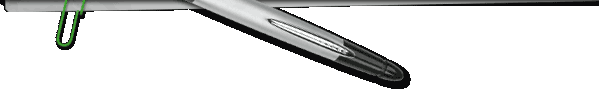Я так или иначе отрабатываю свой путь
(интервью Эдмунда Шклярского 2020)
 Мы идем по набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Здесь, в стенах Горного института, играя на ступеньках, ведущих к воде, засматриваясь на Исакиевский собор и огромные корабли, провел детство мой попутчик и собеседник – лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. В 2020-м году самому загадочному музыканту российской рок-сцены, поэту, композитору, художнику, изобретателю исполняется 65 лет.
Мы идем по набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге. Здесь, в стенах Горного института, играя на ступеньках, ведущих к воде, засматриваясь на Исакиевский собор и огромные корабли, провел детство мой попутчик и собеседник – лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский. В 2020-м году самому загадочному музыканту российской рок-сцены, поэту, композитору, художнику, изобретателю исполняется 65 лет.
«ВСЕ, ЧТО БЫЛО ДО ШКОЛЫ, - МОЯ ЕДИНСТВЕННАЯ НОСТАЛЬГИЯ»
– Вот эти места, где Горный и порт, вызывают в памяти детские впечатления, воспоминания, что мне там было легко и хорошо. Это, наверное, единственное место в городе, с которым меня связывают особые нити. Оттуда вся историческая территория как на ладони, открываются виды на Исакиевский собор, и все наводнения были близки, потому что мы всегда ждали, когда все вокруг смоет наконец-то. Сейчас я живу в тихом центре, но если выйти из дома, то иллюзия спокойствия развеется и сразу будет все громко.
– У вас есть ностальгия по прошлому?
– Все, что было до школы, мне нравилось (смеется), была беззаботность и делай, что хочешь. Это моя единственная ностальгия, а все остальные времена я в принципе принимаю как данность.
– Эдмунд, вы как-то сказали, что ощущаете враждебность этого мира. Это ощущение с годами растет?
– Да, когда ты выходишь из парадной, попадаешь в чуждый мир, особенно это ощущалось в детстве. Тогда еще двери не закрывали, но мы находились за забором, потому что был пропускной режим. И ощущалось, что выходишь в мир не настолько враждебный, как сейчас, но все равно ты должен быть начеку (смеется).
– А в чем враждебность в принципе выражается?
– Когда мы были в Японии на гастролях, меня удивляло, что ты выходишь из гостиницы и попадаешь в комфортную среду. Нет никакой разницы, находишься ли ты у себя в номере или на улице, как будто одно – продолжение другого. Там повсюду ощущалась атмосфера безопасности и уверенность, что ты можешь выйти ночью на улицу и никто тебя не тронет.
– А здесь, в родном городе, вы можете так же без опаски ночью выйти...
– ... выйти на кладбище (смеется). Ну если есть такая необходимость, я могу выйти. Вспоминаю случай, который рассказывал Сергей Воронин. Однажды часов в шесть утра он вышел из поезда на Московском вокзале и увидел, что навстречу идут одни китайцы. И больше никого нет. Он очень испугался (смеется). И еще наблюдение. Мы несколько лет подряд 31 декабря посещали театры. И когда возвращались домой, по городу вечером шли одни приезжие. В Москве так уже давно было, всё нас удивляло, но для меня это до сих пор не совсем естественная ситуация. Как если бы мы были в Японии, а там по улицам шли одни негры, извиняюсь. Это было бы как минимум странно: ты вроде бы находишься в Токио, а навстречу тебе идут представители совершенно других стран.
– А в мире в тренде толерантность. И даже новым агентом 007, говорят, будет женщина-негритянка...
– Я вот вспоминал недавно, что Джимми Хендрикс, когда он был уже известным, не мог в Америке войти в первую дверь автобуса – если бы ему это было надо, – потому что у него не тот цвет кожи. Можно декларативно все это утверждать и говорить, что нет расовой непримиримости. Но это бред. Она есть, и расовые отношения никуда не могут деться, потому что это ну абсурд. Другое дело, что расовую нетерпимость не надо подогревать. Но и создавать из нас общую массу людей, которая не будет знать ни национальностей, ни пола, тоже очень странно. Тогда нам нужно отменить всю историю, ведь все равно у каждой нации есть свой характер и традиции. Другое дело, что ты должен их знать и понимать, что можешь чем-то оскорбить человека другой национальности. У царей для этого были визири, которые все знали. И они ему говорили, что вот это делать можно, а это нельзя, потому что у данной национальности и верования такие традиции и пристрастия. Это тонкое искусство, но по-человечески ты должен представлять, что эти люди могут жить своей жизнью, со своим укладом, и с ним надо мириться в том плане, насколько это возможно.
«ПЕРВЫЕ ЭМОЦИИ НА ТО ИЛИ ИНОЕ СОБЫТИЕ НЕ ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЕ»
Чрезмерное внимание публики, любовь, которую поклонники часто стараются продемонстрировать любой ценой – иногда ценой дискомфорта своего кумира – это та самая плата за известность для каждого знаменитого человека. Но и у маски героя есть обратная сторона – это та жизнь, которая должна находиться за пределами видимости общества.
– Эдмунд, вам периодически приходится сталкиваться с нарушением ваших личных границ. Публичная работа вынуждает вас много общаться с людьми. А в последнее время вы устраиваете так называемые «активности» – выставки, презентации. Как удается мириться с бестактностью людей, которые оказываются рядом с вами?
– Была выставка, значит, надо ее разукрасить, чтобы это проходило не совсем скучно. Если есть возможность разнообразить выставку или презентацию какими-то декорациями, действом, мини-концертом, это все равно для какой-то части зрителей будет интересно. Это некое ответвление от нашей жизни. Но в основном общение с публикой у меня все-таки концертное. Мой ближний круг – семейный, дальше – музыкальный, и там в принципе все понятно. Если туда входят организаторы, то требовать от организатора того, чего у него нет и никогда не будет, нереально. Так же, как от зрителя требовать ответ, почему он слушает музыку и почему приходит на концерт, это тоже, скажем, странно. Если ты участвуешь в этой истории, имеется в виду, когда у тебя уже нет сцены, и ты находишься в этом кругу, тебе не остается ничего, как принимать эту ситуацию. Знаете, как говорили: все пройдет, пройдет и это. Главное – спокойствие.
Если прислушиваться к некоторым мнениям, тогда нужно вообще не играть. Это лучший выход, как ни смешно покажется. Потому что некоторые до сих пор думают, что были чудесные времена в застойные годы, когда все разваливалось, в клуб приходили 30 человек – настоящие ценители. А когда публики становится больше, то это уже не ценители, а случайные, примазавшиеся, прибившиеся люди. Некоторые про себя говорят: вот я настоящий ценитель, истинный поклонник, больше меня их любить никто не может, а он кто, какое он вообще имеет право ходить на концерт? Это патологическая история, с которой бесполезно бороться. Единственный способ – не вступать ни в какие переговоры, потому что ты будешь только еще больше распалять огонь (в этот момент в комнате жуткий грохот, будто обвалился шкаф с посудой – Авт.). Вот и предметы поддакивают (смеется).
– Как полагаете, что будет, если люди станут говорить то, что думают?
– Я думаю, что это вряд ли когда-нибудь случится. Да и не всегда в этом есть необходимость. Потому что порой первые эмоции на то или иное событие не всегда правильные. Даже, например, когда нас посещали все эти катаклизмы 91-го года, у тебя, может быть, первоначально возникло одно ощущение, но потом оно изменилось, потому что меняется время, и ты на это уже немножко иначе смотришь. Сначала у тебя эйфория в 88-89 годы, во всех головах общее настроение, и тебе сейчас бесполезно объяснять, какое оно было тогда. Казалось, что наступит рай земной (смеется), а наоборот, все провалилось, и вылезли совершенно другие персонажи 90-х.
«ВСЕ КАРТИНЫ, И ПОДАРЕННЫЕ, И КУПЛЕННЫЕ, ПОКА ЛЕЖАТ И ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА»
Квартира-музей Л.Н. Бенуа на Васильевском острове. После прогулки по набережной Лейтенанта Шмидта вдоль старинных зданий, которые либо принадлежали именитым людям, либо принимали их в своих гостеприимных стенах, так приятно оказаться внутри одного из таких домов и погрузиться в уникальную, пронизанную творческим духом атмосферу. Здесь, за чаем, в уединенной обстановке великолепных интерьеров, все располагает к приглушенным разговорам по душам. И говорить хочется о прекрасном.
– Эдмунд, вокруг столько красивых вещиц и на стенах много картин. Вы мне как-то сказали, что не любите, когда на стенах что-то висит.
– Нет, ну это чужие стены – пусть висит. А у меня дома, да, в принципе на стенах ничего не висит – ни картины, ни барельефы, ни фотографии, потому что тогда нужно все вокруг завешивать.
– А те картины, которые вам дарят, или те, что вы покупаете? Вот же недавно на выставке большую картину приобрели. С ними что?
– Подаренные все пока лежат, как и мои собственные. Большая ждет своего часа и будет повешена, сейчас просто нужно найти уголок. Но это не моя картина (смеется). Вот сейчас на даче висят фотографии внуков. Ну они сами сделали, а мы повесили.
– И каково в роли дедушки? Часто внучков подбрасывают?
– Знаете, пока нет ни у кого работ и забот, не привозят, сами справляются. Приезжаем в основном мы – погулять, поиграть или как-то провести время.
– И песенки им поете?
– Свои пока еще рановато. Пою разные детские песенки: «Чунга-Чанга» и вот это все (смеется). Что Шаинский написал, то и пою.
– Помнится, вы купили куклу в ЦДХ и даже рассказывали об этом в своем блоге. Это какая-то особенная привязанность? Вы их собираете?
– Нет, я ничего не собираю. Раньше собирал марки, но тогда, наверное, все их собирали, но это опять же было в определенный период, и альбомы до сих пор остались. Папа тоже собирал марки.
– Семейное дело?
– Да (смеется), семейное. Почему не собираю? Потому что тогда можно завалиться всем этим, заставить всю квартиру. А насчет кукол, у нас ведь все время в семье жили так называемые куклы, если так можно называть роботов. Папа постоянно работал над созданием существа, которое должно как-то шевелиться. Это уже было частью моего существования – какой-то неодушевленный предмет, который всегда присутствовал в доме. И я теперь этим занимаюсь. Вот есть один, сейчас делается второй. Он будет играть на слайд-гитаре.
– Они скоро все у вас будут на сцене стоять вместе с вами?
– Ну двоих уже можно выпускать, да (смеется).
– Имя первому так и не придумали?
– Пока нет, пока только технические характеристики. Имя придумается, когда он наконец обретет свое лицо. А у нового лицо в виде магнита – он когда-то был у нас на сцене. Ну и язык еще.
– К новой программе готовите?
– Нет, это, скорее, моя личная жизнь (смеется). Если все заработает, обязательно покажу. Придумать можно все что угодно, важно, чтобы это можно было потом материализовать. Мне помогают люди, у которых есть опыт в этом деле, моторчик. Главное же – моторчики (улыбается).
– И еще вопрос о красивом. Одно из постоянных украшений, которое с вами почти всюду, мальтийский крест. Это дань чему?
– Мы когда-то ходили в паломничество, оттуда я его и привез. Собственно говоря, мне нравится эстетика этих крестов, без углубления в историю происхождения. У меня еще был и другой крест, даже на крест по форме не совсем похожий... Они своеобразные и по-своему очень красивые. И на гитарном ремне он смотрится хорошо.
«ЕСЛИ ТЫ РЕЗКО ОБРЕЗАЛ ВСЕ СВЯЗИ И УЕХАЛ НА ОСТРОВ, НЕ ФАКТ, ЧТО СТАНЕШЬ ГОГЕНОМ»
Избранность – это не только положение в обществе, некий пьедестал, на который тебя ставят ценители творчества, это еще и внутреннее ощущение себя и умение с этим жить, не теряя почвы под ногами и оставаясь собой. И я, конечно, задала Эдмунду Шклярскому этот провокационный вопрос.
– Глупо отрицать тот факт, что вы особенный человек, бог одарил вас талантом и определенным везением. Признайтесь, то, что вы другой, дает вам определенное чувство превосходства?
– Не превосходства. Есть чувства другие – заданности, запрограммированности (смеется), что ты находишься на рельсах. Не ты их построил, хочешь или нет, но катишься по этим рельсам, и тебе не дано с них сойти, потому что если ты сойдешь, то станешь лишним на этом празднике жизни. Но я не скажу, что такая запрограммированность – это очень хорошо. Так или иначе ты отрабатываешь свой путь.
– Но ведь далеко не все выделяются из общей массы, как вы...
– Все дети начинают примерно одинаково. Если дать им пластилин, они будут лепить, дать краски – станут рисовать. Впоследствии по каким-то причинам многие прекращают. По какой-то причине я не прекратил. Это можно или развивать, или в определенный момент завершить. Потому что многое заканчивается, когда человек женится, как это ни странно. И всё! В семье сразу перекрывают кислород: что ты там ерундой занимаешься?
– Вам в этом плане повезло.
– Мне повезло, что все произошло быстро, и я перешел на, так скажем, профессиональные рельсы. Если бы я долго бегал на репетиции, продолжая заниматься музыкой как хобби, это бы мало кому понравилось. Один мой знакомый – уже взрослый – ходит на репетиции, а жена, понятно, как к этому относится. Ведь даже с рыбалки рыбу приносят, а с репетиции ты только можешь пьяным прийти (смеется). Да даже если он приходит трезвым, тем не менее вполне понятна реакция семьи, когда нет никакого выхлопа, условно говоря, ни морального, ни материального. Или надо поступать, как Гоген: в сорок лет уехать на остров и забыть всех. Делать решительные поступки. Но опять же, если ты резко все обрезал, не факт, что ты станешь Гогеном (смеется). Нет никакой гарантии.
– Если я попрошу вас назвать что-то в вашем понимании прекрасное, что радует душу, когда вам плохо?
– Нирвана.
– В вашем понимании нирвана – это что?
– Это как огонек спиртовки. Ты просто находишься в состоянии этого огня, где ничего не происходит. Это определение идеального состояния. Наверное, его не зря ищут.
– Вы его нашли или ищете еще?
– Нет. Я и не ищу, потому что это большой путь. Насчет плохого настроения, у меня нет такой конкретной музыки или фильма, чтобы посмотрел и тебя отпустило. Вот отец пианиста Вана Клиберна работал в нефтяной отрасли, и, когда у сына случалась депрессия, возил его с собой. И, мне кажется, что, если человеку действительно не по себе, ему надо отправляться в путешествие, паломничество, искать себе трудности. Это один из способов, который может его отвлечь, успокоить. Это уже совсем другие интересы, когда тебе некогда слушать музыку, а просто надо дойти от одной точки до другой и не упасть.
«ТЫ НЕ МОЖЕШЬ НАХОДИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПРИ ЭТОМ ЧТО-ТО ПРИДУМЫВАТЬ»
Противники рок-музыки, пытаясь отвратить молодежь от этой культуры, рассказывают об аморальности рокеров, дескать, все они неразборчивы в связях, пьют-колются, в общем, все, как в расхожей фразе «секс, наркотики, рок-н-ролл». Но жизнь – это вовсе не плоская рама, и по-настоящему яркие интересные личности не вписываются в ее шаблоны. Эдмунд Шклярский не только успешный рокер, он – замечательный муж и отец, а теперь еще и дедушка. Его семейная жизнь прошла испытание многолетними гастролями, атакой поклонниц, трудными временами.
– Сегодня браки распадаются очень быстро. Люди перестали ценить семью и не держатся друг за друга, как это было раньше. Эдмунд, а что помогает вам и вашей жене столько лет хранить семью?
– Нет, но во время революции же вообще это было в тренде – меняться (смеется). Но мы живем еще в более или менее уравновешенное время. Я не знаю... Это зависит, наверное, от характера самих... брачующихся. В нашем случае гастроли особенно помогают. Многим же нравилась профессия моряка дальнего плавания: его долго нет, а потом он приезжает, и в семье все хорошо. Расставания, мне кажется, в каких-то разумных дозах полезны, потому что вы встречаетесь как бы заново, и нет рутины. Вот из-за коронавируса в Китае много браков распалось, потому что всех людей заставили сидеть на карантине. И они уже просто не могут друг с другом находиться (смеется). Пошел вал разводов. Вот секрет – хотя бы на какое-то время уезжать из дома. Не мозолить друг другу глаза.
– А вы как же во время карантина жили?
– Во-первых, у меня аппаратура находится в другой квартире, и я ухожу, если надо. Все равно что-то надо делать в одиночестве. Ты не можешь находиться в общественном пространстве, какое бы оно ни было, из одного человека состоящее или из двух-трех, и при этом что-то придумывать. Все равно надо быть на самоизоляции, условно говоря (смеется), добровольно или недобровольно. Поэтому мне в этом плане, может, и легче, что я могу уйти в другое место.
– Помнится, вы называли любовь болезнью. Было такое?
– Да (смеется).
– В вашей жизни это больше помогало или мешало?
– Болезнь? (смеется)
– Нет, любовь.
– Некоторым болезнь – отвлекусь – помогала. Римскому-Корсакову, по-моему, друзья говорили: желаю тебе заболеть, чтобы ты написал новое произведение. Помогает ли болезнь, я думаю, что все-таки она не особо...
– Нет, давайте все-таки называть ее любовью...
– (смеется) К счастью, она мне не помогала и не мешала. Все равно этот воображаемый мир, который записан на бумаге, это вовсе не то же самое, когда художник рисует свою жену, вторую, третью, четвертую. Это воображаемый сюрреалистический мир, где нет очертаний. И по полунамекам, которые, может быть, спрятаны там глубоко, ты можешь что-то такое откопать. А так для меня это в принципе параллельная история.
– Любовь и семья совместимы?
– А мне кажется, не надо думать вообще на эту тему (смеется).
– Не надо?
– Да. Опять же все зависит от характера. Можно сразу напрячься, потому что у каждого есть свои привычки, например, некоторым надо, чтобы у них все лежало на одном месте. Есть бытовые вещи, из-за которых все распадается. Или человек не может принять какие-то привычки своей половины. То есть с одной стороны, это принять можно, но он не хочет. Не хочет ждать, ему легче все пустить по боку и искать новые выси, где он сможет обрести идеал, которого нет.
«ТЫ МОЖЕШЬ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ВСЕВЫШНЕМУ, И ВСЕ РАВНО НЕ НАЙДЕШЬ ОТВЕТЫ»
Каждый художник ищет свой путь, свою истину, но не верьте тому, кто уверенно заявит вам, что совершенно точно знает все ответы. Это будет ложь, потому что смысл творчества в творчестве. И если ты остановился, решив, что достиг предела совершенства, это значит, что ты остановился в развитии.
Поэзия Эдмунда Шклярского очень глубокая, тонкая и загадочная, но сам автор намеренно не называет свои тексты стихами, искренне не веря в то, что традиционно зарифмованными строчками в 20 веке можно кого-то удивить. И все свое творчество, нарочито подчеркивая несерьезность этого занятия, определяет как детскую
затянувшуюся игру.
– Тема дороги, вечных странствий и отчужденности в этом мире красной нитью проходит через ваше творчество. Что ваш лирический герой ищет в дороге, какие ответы хочет найти?
– Любой человек задает себе вопрос, на каком основании он вообще существует. Как минимум. Кто-то находит ответ, а кто-то нет. Мой герой не находит, он все еще пока задает вопросы. Все тот же вопрос, но, скажем, с разных сторон.
– Всему виной внутреннее неспокойствие, некий дискомфорт, который заставляет творить?
– Его необязательно искать в себе, устройство мира несправедливо. Почему хорошие молодые люди умирают, а плохие живут? Знаете, как говорят: почему блюз главенствует, когда хорошему человеку плохо? Я имею в виду вообще в мировом масштабе. Ты можешь задавать вопросы всевышнему, да кому угодно, и все равно не найдешь ответы. И мне кажется, это неправильно, чтобы так было. Но ты не можешь ничего сделать, ты просто видишь, что так происходит. Я нахожусь вокруг всего этого происходящего, и мое неспокойствие не только мое, оно и твое – наше общее.
– Темы приходят оттуда?
– Ну по-разному. Вот недавно я написал стихотворение, прототипом первой фразы в котором стал наш барабанщик Леонид. Он сказал: «Ничего не хотел, а все есть». Все, что написано дальше, к нему не относится. Но первая фраза родилась вот так. Текст уже готов, но без музыки не смотрится.
– А вам доводилось сетовать на несправедливость жизни?
– Лично мне – нет. Множество людей считают себя несправедливо обиженными судьбой. Но это неправильно. У тебя такая судьба и всё тут. Обижаться вообще бесполезно. Надо просто не сидеть на месте, как минимум шевелиться. Когда в трудные времена у нас не было концертов, мы все равно шевелились, потому что не могли сидеть на месте со сложенными руками. Даже если ты ищешь в совершенно другой плоскости и найдешь не то, что тебе надо, оно все равно потом тебе пригодится. А если ты будешь, как в том анекдоте: «Бог, дай мне выиграть! – Ну ты хотя бы билет купи», то ничего не добьешься.
Я говорю про свои конкретные ощущения. Но мастер может вообще ничего не делать. Некоторые считают так: я написал вот это и больше не хочу ничего писать. Ну хорошо, вот «Грачи прилетели» – хорошая же картина? И Саврасов ее часто тиражировал, потому что его просили. Не другую картину, а именно эту просили сыграть. Сыграй эту картину (смеется)! И он играл эту картину. Она получалась то лучше, то хуже, понятно, что он не мог ее в точности повторить. Но мы же не станем осуждать человека за то, что у него хорошо получилась эта картина и люди хотят слушать именно ее.
– С вашими песнями все то же. Вы регулярно пишете новые альбомы, но поклонники приходят слушать хиты.
– Да, но, с другой стороны, мы не можем их не играть, потому что иначе это будет обман. Обман зрения. В принципе то, что мы играем, нам не надоедает. Нам вполне комфортно. Опять же если эту песню поставить на другое место, переместить в программе, она начинает звучать совершенно иначе, краски новые появляются.
«ВСЕ МОГУТ САМОВЫРАЖАТЬСЯ. ДЛЯ ЭТОГО НЕ НАДО БЫТЬ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ»
В начале пути, когда Эдмунд Шклярский стал лидером «Пикника», у него был выбор – пойти проторенной дорожкой других музыкальных коллективов или играть то, что нравится. А играл он нечто новое, сложное и непонятное, так что остаться верным себе было бы большим риском для молодого музыканта. Но он все-таки рискнул.
– Сейчас свобода самовыражения в моде, и каждый творит в меру своего разумения, называя себя художниками, поэтами, композиторами независимо от мастерства. Что с этим делать?
– Художник без образования – тоже странное понятие такое. Потому что многие сейчас действительно себя называют художниками. Сегодня я как раз видел по телевизору корейское искусство в Эрмитаже. И вот там очередная инсталляция: стоит проигрыватель, чайник, все, что под руку попало. Примерно то же самое продается в лавке недалеко от моего дома. Можно купить такое же старье, поставить, включить и говорить, что это инсталляция, и на что-то она намекает. Опять же вопрос: а судьи кто? Кто будет оценивать, что есть профанация, а что есть искусство? Мне кажется, что все равно к фигне, которую показывает этот псевдохудожник, он должен дойти с помощью мучений (смеется). А мучения должны заключаться хотя бы в классическом образовании. Вот пускай он сначала научится лепить, если он скульптор. Потому что самовыражение – это самый простой и пошлый метод. Все могут самовыражаться. Для этого не надо быть семи пядей во лбу. К этой простоте и этому бреду, который он выставил, он должен пройти через определенные стадии и сметь их выставить, называясь художником. Одно дело, если в Эрмитаже просто выставили самозанятых, самореализующихся. А если выставляются художники, то мне, обывателю, нужно показать, что он действительно художник, что до этого он прошел какой-то путь художника. Или даже пусть не художника. Может, он на Тибете был и повторил путь Святого Якова по полной программе – ноги стер себе. И он что-то понял. А не просто зашел в лавку, купил какие-то предметы, поставил их, включил и заставляет тебя ему верить. На каком основании я должен ему верить?
– Вы вот сейчас говорите, и мне вспомнилась инсталляция такого же вот художника в Центре Жоржа Помпиду в Париже: приклеенные к стене и подсвеченные зубная щетка и паста. Бывали там?
– Нет (смеется), он был закрыт. Но подобное я видел в музее Австрии.
– Вызывает вопросы определенные...
– Даже не вопрос, а ответ. Но в Центре Помпиду есть и настоящее искусство, к счастью. В том же музее в Австрии на первом этаже был Магритт. А если ты хочешь просветлиться-просветиться, ты идешь и видишь щетку (смеется). Проблема в том, что ты просто продолжаешь осматривать экспозицию дальше и не знаешь, что тебя там щетка ожидает.
– Дилетантский подход раздражает, но дилетанты свободны, а профессионалы зачастую сетуют, что правила игры им навязывают, ставя на коммерческие рельсы.
– Я, собственно говоря, ничего плохого не вижу в своей ситуации, кроме того, что мы, как и весь мир, погрузились в такую... Конкретно нам никто не диктует. Если кому-то диктуют условия, значит, они попались в такие тиски. Понятно, что писателю проще – ему нужна бумага и карандаш, или он может купить себе печатную машинку или компьютер. Но если тебе надо снимать кино, понятно, что ты не можешь этот процесс осуществить самостоятельно за редким исключением, когда люди снимают фильмы на все свои последние деньги, как Мел Гибсон. Поэтому, когда человек находится в таких больших формах, он связан по рукам и ногам, можно сказать, такими демонами, с которыми ему приходится как-то существовать.
– Но ведь нас же этим кормят...
– Меня этим не накормить. Это идет мимо меня, мы живем на разных планетах, независимо от того, что пересекаемся во времени. Мне этого не надо, значит, я это не ем, даже если это кушанье стоит на столе. Потому что оно мне ничего не дает, и я им не насытюсь. Я все равно стараюсь насытиться той информацией, которую я так или иначе ищу, а не той, которую мне предоставляют.
– Вы взрослый, опытный, и вам проще отсекать, а как быть с детьми? Внуков будете ограждать от этого мусора?
– Вообще ограждать от чего-либо проблематично. Любой человек старается получить свой опыт, независимо от того, что бы ему там ни говорили. Какие бы советы ни давали, что вот это хорошо, а вот это плохо или опасно, все равно он будет лезть куда не надо – совать руки в огонь, в розетки. От всего не оградишься, рано или поздно это вылезет наружу. Если ты его оградишь здесь, то он найдет это в другом месте, или ему подскажут. Страшнее даже не плохое искусство, а информация о наркотиках, которая тоже как кушанье предоставляется. Тогда уже все остальное действительно покажется мультиками по отношению к этой проблеме.
«ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНИ – ЭТО УЛИЦА, А НЕ ТО, ЧТО ТЕБЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ»
Когда твой собеседник – человек другого поколения, невольно ощущаешь некий трепет от того, что можешь прикоснуться к эпохе, которую не застала. И в голове сразу возникает рой вопросов, и хочется узнать его мнение буквально по всем темам. Не ко всем мудрость приходит вместе с возрастом, но, как говорят, ровесники Шклярского, он понимал этот мир уже в 22 года.
– В вашей семье хранится много старинных открыток. Для вас они – это некий привет из прошлого, или они доставляют вам больше эстетическое удовольствие?
– Эти открытки мы не специально собирали, конечно, они пришли к нам от родственников. И теперь просто лежат как факт существования. У нас хранятся клочки от бабушек-прабабушек, и уже трудно разобрать, что там написано. И тем не менее мы их не выкидываем, скорее, свое что-то ненужное выбросишь, порвешь. А эти клочки из древних времен храним – просто рука не поднимается, хотя, может, никакую информацию они уже и не несут. Как и открыток, у нас очень много военных писем, особенно дядиных, потому что отец плавал, и письма редко доходили. А от дяди, который жил в Риге, у нас много писем осталось, их очень интересно читать, а некоторые даже смешно. Вот уже война идет, а он пишет: «Если бы не было патефона, на котором можно слушать хотя бы одну пластинку, то вообще бы тоска была». На войне (смеется).
– А вы сами письма писали?
– Писал, но редко, когда были какие-то сборы или другие поездки. Просто не было такой необходимости, потому все отлучения оказывались не настолько долгими.
– Раз уж мы заговорили о войне. В этом году 75-летие Победы. Вы, наверное, заметили, что наше общество разделилось на два лагеря. Одни поют, вспоминают Победу, рассказывают детям о тех временах. Другие считают, что праздновать, носить портреты дедов в Бессмертном полку и наряжать детей в пилотки кощунственно, сродни танцам на костях. Как вы относитесь к этому дню? По-вашему, нужно рассказывать детям об этой войне?
– Ну, во-первых, как мне кажется, дети эгоистичны по отношению к своим родителям. То есть вот он есть – хорошо, нет – жалко, но не более того. Имеется в виду, ты все равно не осознаешь, что родители, скажем у меня, были на войне. Все равно ребенок живет своей жизнью. Ты не можешь его ничем привлечь, никакими коврижками. За редким исключением чудо-детей, которые прониклись к своим предкам-родителям, все равно отношение, как мне кажется, эгоистичное. И я думаю, что я не оригинален в этой ситуации. А насчет войны, да, ее как раз вспоминают в день рождения. Я 9 мая тоже выхожу как зритель, не с портретом, а посмотреть, что творится. И не вижу ничего плохого в том, чтобы дети знали о той войне. Все равно должна быть какая-то память, и это не самая плохая память, что твои предки защитили землю. Мне папа говорил, – не знаю, правда это или нет: когда война уже закончилась, Черчилль очень внимательно смотрел в физиономии русских солдат, пытаясь понять, что это за люди такие, что им не нужен обед, перерыв, они презрели все блага и смогли себя рассматривать винтиками в этой безумной истории. Не все, наверное, нации, извиняюсь, готовы на это пойти. Все-таки свою роль играет менталитет. Да, наш народ такой-сякой, но в какие-то моменты он собирается и дает по башке всем, кто претендует на его территорию. А общество относится к этому подвигу эгоистично и вспоминает о нем, как и о своем родителе, когда его нет, или в день рождения или 8 марта. Ну и что? Да, хорошо бы, чтобы об этом помнили все время, но вот у нас такой уклад жизни.
– Думаете, нынешнее поколение способно на самоотверженные поступки?
– Понятно, что отношение к своей стране у людей меняется. После перестройки вообще было отношение, которое можно выразить фразой: пришли бы немцы – пили бы пиво. Баварское. Вот как было бы хорошо. Но мне кажется, в этом было какое-то ерничество. Что будет, как проявят себя люди в случае каких-то катаклизмов, мы не знаем. И не дай бог, чтобы мы – да и не только мы – были свидетелями каких-то катаклизмов.
– А можно стать героем, когда нет войны?
– Почему нет? Есть же примеры, которые нам показывают, когда один ребенок вытаскивает другого из пруда или из горящего дома. Чем не героизм?! Человек иногда даже не знает сам себя и своих возможностей, как он поступит в той или иной экстремальной ситуации. Некоторые стены перепрыгивают, когда за ними бегут. Но лучше пусть не будет в нашей жизни экстремальных ситуаций.
– А в некоторых школах сейчас патриотизм в виде урока ввели, пытаются привить любовь к родине...
– Искусственно нельзя насадить ничего и тем более любовь к родине, понятно, что не будет никакого эффекта. Если тебе это неинтересно, ты к этому не готов, то бесполезно какие-то уроки давать. Так же и с обычными школьными предметами, математику тоже бесполезно прививать, если человеку это неинтересно. Я имею в виду, что патриотизм надо прививать через уроки истории, а так получаются мантры какие-то. Но мантрами, я думаю, не стоит сильно человека перегружать, потому что он находится в реальной жизни, видит, что происходит на улице. Все равно главный показатель жизни – это улица, а не то, что тебе показывают по телевизору или что ты прочтешь в газете. Важно – что висит в воздухе. Вот перестройка в свое время висела в воздухе, ты чувствовал, что время изменилось. А сейчас я ничего такого не чувствую в воздухе. И коронавируса тоже. Это сравнимо с призывами: на нас нападают марсиане, все на борьбу с ними (смеется)! Они маленькие, как бактерия, но это все равно марсиане. Еще надо маленькие копья сделать, чтобы их колоть. Вот такая немного фантастическая картинка.
Когда мы были у Горного университета, мне подумалось, что эти потемневшие от воды гранитные набережные, неприветливые и гнетущие в пасмурную погоду, и расцветающие под солнечными лучами, так вот они и мой собеседник в чем-то очень похожи. На сцене, в необычных, сюрреалистических декорациях и черных очках Эдмунд Шклярский – далекий и таинственно-сумрачный. Но в жизни, когда он наливает тебе чай, рассказывает истории из жизни или вы перебегаете улицу на красный в потоке машин, рядом жизнерадостный, общительный и в чем-то авантюрный человек. Это лишь разные стороны одной многогранной личности. Человек, которого ты знаешь. Человек, которого не познаешь никогда.
Опубликовано в журнале «Русская мысль», сентябрь, 2020
Татьяна Бадалова
https://proza.ru/avtor/tatetess