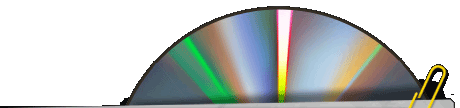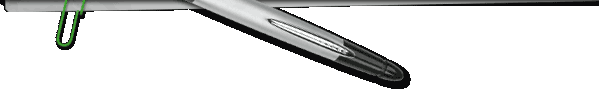Н. ОСТРОВСКИЙ
«НЕ СДАДИМСЯ!»
Интервью
(Интервью
московскому корреспонденту английской либеральной газеты
«Ньюс кроникл» С. Родману за два месяца до смерти)
—
Я только недавно начал читать «Как закалялась сталь»
и прочел совсем мало: мне трудно читать по-русски. Очень
немного из советской литературы переведено на английский
язык.
— Да. Только «Тихий Дон», частично «Поднятая целина»...
— И еще есть антология. Но вы следите за советской
литературой и знаете, что за последнее время советская
литература дала мало хороших произведений.
— Вы думаете, что мало? Для меня было большой неожиданностью
издание «Как закалялась сталь» в Японии: ведь там такая
суровая жандармская цензура.
— Но цензура эта строга только к политически
опасным вещам. В Японии очень большая интеллигенция.
— А «Как закалялась сталь», по-вашему, не опасна?
— Я прочел совсем немного, не могу судить. Но
я знаю, что сейчас за границей большой интерес к вашей
личности. Ведь в романе ваша личность играет большую
роль.
— Раньше я решительно протестовал против того, что эта
вещь автобиографична, но теперь это бесполезно. В книге
дана правда без всяких отклонений. Ведь ее писал не
писатель. Я до этого не написал ни одной строки. Я не
только не был писателем, я не имел никакого отношения
к литературе или газетной работе. Книгу писал кочегар,
ставший руководящим комсомольским работником. Руководило
одно — не сказать неправды. Рассказывая в этой книге
о своей жизни, я ведь не думал публиковать книгу. Я
писал ее для истории молодежных организаций (Истомол),
о гражданской войне, о создании рабочих организаций,
о возникновении комсомола на Украине. А товарищи нашли,
что книга эта представляет и художественную ценность.
Если рассматривать «Как закалялась сталь» как роман,
то там много недостатков, недопустимых с профессиональной,
литературной точки зрения (ряд эпизодических персонажей,
которые исчезают после одного-двух появлений). Но эти
люди встречались в жизни, поэтому они есть в книге.
Если бы книга писалась сейчас, то она, может быть, была
бы лучше, глаже, но в то же время она потеряла бы свое
значение и обаяние. Книга дает то, что было, а не то,
что могло быть. В ней суровое отношение к правде. И
в этом книга неповторима. Она не создание фантазии и
писалась не как художественное произведение. Сейчас
я пишу как писатель и создаю образы людей, которых не
встречал в жизни, описываю события, в которых не участвовал.
— Каков сейчас тираж «Как закалялась сталь»?
— Тираж ее сейчас достигает 1 500 000, и до конца года
будет еще несколько изданий, всего будет 1 750 000 —
2 000 000 экземпляров. В два-три года книга выдержала
пятьдесят два издания. В одном 1936 году она издана
тридцать шесть раз. Даже для наших темпов это грандиозно.
Она нашла пути к сердцам читателей, особенно к молодежи,
потому что, помимо своих художественных достоинств,
без которых она не волновала бы, она сурово-правдива.
Книга нашла людей, о которых в ней рассказано: они пишут
мне, и ни один не сказал, что я как-то исказил события
или характеры.
Все события и участники их даны без прикрас, со всеми
плюсами и минусами, со всеми страданиями и радостями.
— Когда-то будет написан роман о вас, я в этом
убежден. Пока еще это время не наступило. Но вас уже
знают за границей? Буржуазия ценит мужество в людях.
Ваше мужество вдохновляется большевистским духом. Из
книги узнают человека, которого любит вся страна, которого
уважает и бережет правительство.
— Вы - представитель буржуазной газеты, а ваши личные
убеждения? Если вы — мужественный человек, вы должны
сказать мне правду
—«Ньюс кроникл» — либеральная газета. Мне приходилось
не раз бросать работу в газетах, которые начинали вульгарно
относиться к СССР. Я приехал сюда работать, так как
мне хотелось жить в СССР и изучить его. Для меня несомненно,
что коммунизм — следующий этап цивилизации.
— Безусловно! Но сейчас в капиталистических странах
журналисты вынуждены прибегать ко лжи. Больше того,
целые политические партии лгут в своей работе. Правды
они говорить не могут, так как массы ОТОЙДУТ от них,
и они должны маневрировать между двух групп — правящей
группой и трудящимися массами.
Нас обвиняют в разрушении творений искусства, но вы
видите всю подлость этой клеветы. Нигде искусство так
не охраняется, как у нас. А читают ли где-нибудь Шекспира
так, как у нас? И это рабочие, которых считают варварами.
А вопросы гуманизма! Говорят, что мы забыли это слово.
Подлая ложь. Наоборот, гуманизм по отношению к врагам
был причиной многих ошибок. Наша мечта — возрождение
человечества.
— Человечество понимает, что у вас дело идет хорошо.
СССР посетил недавно один литовец, профессор, турист.
Он не был здесь двадцать лет. В беседе со мной он сказал,
что они думали, что без частной собственности, у большевиков
не может дело пойти: стимула нет. Но, оказывается, дело
идет. Он видит ГРОмадную работу по поднятию культурного
уровня населения. И вот, настроенный против при приезде,
он уезжает убежденный, что КОММУНИЗМ — большая сила.
Он профессор философии, религиозен и очень недоволен,
что в СССР царит атеизм. Он говорит, что КОММУНИсты,
которые работают по принципам христианства, невольно,
но обязательно станут христианами.
— Это парадокс. Великий ученый Павлов был очень долго
религиозен. Но понятно, что у него это шло от воспоминаний
детства и еще от некоторого фрондерства. Хочу — и иду
в церковь, и никто запретить мне не может. Мы — коммунисты-материалисты
и понимаем, как страшна машина угнетения человечества.
Она уже отработала. Когда-то капитализм имел цивилизаторскую
роль, созидательную. Хоть и на основе эксплуатации,
но он создавал огромные ценности. Этого не будешь отрицать.
Но то, что делается сейчас: выбрасываются в море бочки
масла, тысячи тонн кофе...
— Известно ведь, что Рузвельт платил фермерам,
чтобы они уничтожали свои посевы.
— Разве это не признак распада, гниения капитализма?
Англия, огромная культурная страна в прошлом, сейчас
не продолжает культурного роста. Там только старые ценности,
сложенные в ящики, заплесневелые, и ничего нового. Наступил
паралич, нужна новая свежая кровь, чтобы снова развиваться
и творить. А новой крови они не могут взять, так как
она только в коммунизме. Коммунизм — возрождение всего
мира. А это для правящих классов звучит страшно. Политикой
Англии руководят люди, место которых в доме умалишенных.
Если страшен один сумасшедший с револьвером, то что
же сказать о таких, которые могут бросить в бойню сорок
пять миллионов человек, всю нацию и залить кровью весь
мир? Как до сих пор не стало ясным за границей, что
СССР не ставит своей целью все истребить?
— Нет, теперь уже начали это понимать.
— Да? В истории останутся имена одиночек-властителей,
ужасных и жутких: Гитлера, Муссолини. Но самое отвратительное
чудовище - это буржуазная печать. Каково положение журналиста:
или лги и получай деньги, или будешь вышвырнут вон?
У кого честное сердце, тот, откажется, а большинство
пойдет на это.
Трудно удержать там честное имя. А ведь страшно жить
так. Журналисты лгут сознательно. Они всегда знают правду,
но продают ее. Это профессия проститутки. Фашисты видят
отлично, где хорошо, но они будут уничтожать это хорошее
из ненависти. И вот рабочие массы читают газеты, многие
верят им. Это страшнее всего.
Мы уважаем честную открытую борьбу с оружием в руках.
Я сам дрался и убивал и, будучи впереди цепи, вел на
это других. Но не помню случая, чтобы мы уничтожали
сдавшегося, безоружного врага. Это был уже не враг.
Откуда осталась у бойцов теплота к этим людям, которых
десять минут назад они без пощады рубили? Я сам отдавал
последнюю махорку. Были отдельные, единичные выступления
махновцев, недавно попавших в отряд, но мы их перевоспитывали
и боролись с ними.
Я, если бы чувствовал неправоту дела, которое я выполняю,
мне кажется, я не мог бы никогда улыбаться. Вы знаете,
не надо было агитаторов, чтобы сделать пленных своими
товарищами. Лучше агитатора — бойцы с их теплым отношением,
которое разоблачало ложь офицеров. Пленный солдат, познанский
крестьянин, чувствовал полное спокойствие за свою жизнь
и быстро становился нашим. И совершенно другое отношение
к пленным красноармейцам со стороны польских офицеров.
Как они издевались: выкапывали глаза, истязали, уничтожали
попавших в плен бойцов, эти носители культуры! А ведь
говорили на Западе, что Польша — страж культуры?! Я
сам видел все издевательства польских офицеров. Я могу
смело говорить о них, я испытал их: вот откуда и пламя
ненависти к фашистам.
Я знаю, что такое гнет капиталистической эксплуатации.
Я работал с одиннадцати лет, и работал по тринадцать-пятнадцать
часов в сутки. Но меня били. Били не за плохую работу,
я работал честно, а за то, что не даю столько, сколько
хозяину хотелось взять от меня. Таково отношение эксплуататоров
к трудящимся во всем мире. И эти люди говорят о гуманности!
А дома они слушают Вагнера и Бетховена, и призраки замученных
ими людей не смущают их покоя. Их благополучие построено
на нечеловеческом отношении к рабочим, которых они презирают
за некультурность. Но как рабочий может стать культурным
в условиях капиталистической эксплуатации? Не они ли
тянут его назад, к средневековью? У нас тоже есть недостатки,
но это остатки старого наследства...
— Какие недостатки имеете вы в виду?
— Отсталость сельского населения, например: на селе
еще много неразвитых людей. Столетиями крестьян заставляли
жить жизнью животных, не давая доступа к знанию, всячески
затемняли сознание. Ведь единственной книгой для народа
было «Евангелие» да еще рассказы о дьяволе. И это особенно
последовательно проводилось в отношении национальных
меньшинств. Давно ли в Кабардино-Балкарии изжиты чисто
средневековые обычаи, обряды, жуткое отношение к женщине?
Разжигание национальной розни — один из методов политики
капиталистов. Вполне понятна их боязнь объединения угнетенных
народов.
— Скажите: если бы не коммунизм, вы могли бы
так же переносить свое положение?
— Никогда! Личное несчастье сейчас для меня второстепенно.
Это понятно...
Когда кругом безотрадно, человек спасается в личном,
для него вся радость в семье, в узколичном кругу интересов.
Тогда несчастья в личной жизни (болезнь, потеря работы
и так далее) могут привести к катастрофе — человеку
нечем жить. Он гаснет, как свеча. Нет цели. Она кончается
там, где кончается личное. За стенами дома — жестокий
мир, где все друг другу враги. Капитализм сознательно
воспитывает в людях антагонизм, ему страшно объединение
трудящихся. А наша партия воспитывает глубокое чувство
товарищества, дружбы. В этом огромная духовная сила
человека — чувствовать себя в дружеском коллективе.
Я лишился самого чудесного в жизни — возможности видеть
жизнь. Прибавьте к этому огромные страдания, которые
не дают ни секунды забвения. Это было огромное испытание
воли, поверьте, можно сойти с ума, если позволить себе
думать о боли. И передо мной встал вопрос: сделал ли
я все, что мог? Но совесть моя спокойна. Я жил честно,
лишился всего в борьбе. Что же мне остается? Предо мной
темная ночь, непрерывные страдания. Я лишен всего, всех
физических радостей, процесс еды для меня — мучение.
Что можно сделать в моем положении?..
Но партия воспитывает в нас священное чувство — бороться
до тех пор, пока есть в тебе искра жизни. Вот в наступлении
боец падает, и единственная боль оттого, что он не может
помочь товарищам в борьбе. У нас бывало так: легкораненые
никогда не уходили в тыл. Идет батальон, и в нем человек
двадцать с перевязанными головами. Создалась такая традиция
борьбы, воспитывалось чувство гордости. За границей
какой-нибудь барон или граф гордится своим старинным
родом. У пролетариев есть своя гордость. И когда теперь
наш товарищ вспоминает, что он был кочегаром, то он
вспоминает об этом с гордостью. У вас это не звучит
ничем, у вас рабочий — пустое место, ничто...
— Что вы читаете?
— Читаю все основные наши газеты и беллетристику. Мне
надо учиться. Жизнь движется вперед, и я не могу отставать.
На чтение уходит несколько часов в день.
— Как ваше самочувствие?
— Если бы вы спросили моего врача, то он сказал бы:
«Я тридцать лет считал, что болен тот, кто ноет, кто
жалуется на болезнь. А этого не узнаешь, когда он болен.
А между тем сердце разрушено, нервы пылают, огромный
упадок сил. Он должен три года ничего не делать, только
есть и спать. А читать Анатоля Франса да Марка Твена,
и то в маленьких дозах». А я работаю по пятнадцать часов
в сутки. Как? Врачам непонятно. Но ничего сверхъестественного
нет. Юридически я болен. Я переношу мучительные страдания,
не оставляющие меня ни ночью, ни днем.
— Сколько вы спите?
— Семь-восемь часов.
— Где вы работали, когда началась ваша болезнь?
— Я политработник, секретарь комитета комсомола. А это
значит — работа с 6 часов утра до 2 часов ночи. Для
себя времени не оставалось совершенно.
— Можно сказать, что вы украинский Косарев?
— Нет. Я был скромным районным работником. После гражданской
войны, в 1921 году, вернулся в мастерские. До 1923 года
работал электромонтером. В 1923 году вернулся на границу,
так как работать в мастерских не мог. Я обманул врачей,
и меня послали в армию, где работал военным комиссаром.
Потом до 1927 года работал в комсомоле. И все это время
болел. А в 1927 году болезнь свалила меня окончательно.
В армию ушел в 1919 году, в возрасте пятнадцати лет,
и там вступил в комсомол.
— Вы мужественный человек. Мужество дает вам
преданность идеям коммунизма. Это идейное коммунистическое
мужество. Да?
— Да. Я могу каждую минуту погибнуть. Может быть, вслед
за вами полетит телеграмма о моей гибели. Это меня не
пугает, вот почему я работаю, не жалея жизни. Будь я
здоров, я экономил бы силы для пользы дела. Но я хожу
на краю пропасти и каждую минуту могу сорваться. Я это
твердо знаю. Два месяца назад у меня было разлитие желчи
и отравление желчью, я не погиб только случайно. Но
как только упала температура, я немедленно принялся
за работу и работал по двадцать часов в день. Я боялся,
что погибну, не кончив книги.
— Почему такое название вы выбрали?
— Сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении.
Тогда она становится крепкой и ничего не боится. Так
закалялось и наше поколение в борьбе и страшных испытаниях
и училось не падать перед жизнью. Я был малограмотен,
до 1924 года я не знал хорошо русского языка.
Огромная работа над собой сделала из меня интеллигента.
Я знал хорошо только политику, а этого для меня в тот
период хватало. Больше всего учился, когда заболел:
у меня появилось свободное время. Я читал по двадцать
часов в сутки. За шесть лет неподвижности я прочел огромную
массу книг.
— Я очень благодарен вам за беседу. Надеюсь
увидеться с вами в Москве. Я сделаю это через НКИД.
— Хочу, чтобы в вашем сердце осталось тепло от нашей
встречи. Мы доверчивы.
30 октября 1936
г.
|